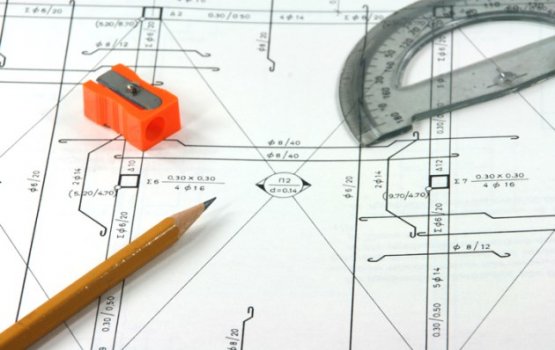Наблюдая за гиперактивными потугами представителей власти хоть как-то пролить свет на трагедию в Золитуде, и с первых же дней происшествия услышав версию о необходимости вмешательства заморских экспертов, некоторые из нас могли прийти к выводу о раздутом политическом пафосе. Тем не менее, по прошествии уже десяти дней с момента массовой гибели и накопившегося впоследствии огромного балласта «экспертных предположений», эта идея, по-видимому, может оказаться единственно справедливой. Почему? Потому что мы привыкли прятаться в норки и жить на довольно замкнутой интеллектуальной территории.
Нынче волна строительной критики настолько в моде, что «экспертов» стали искать и в социальных сетях и в комментариях на новостных порталах и во многих других «страшных местах».
Этот метод добычи «годной информации» уже успел принести свои плоды, например, появлением в сленге латвийцев интересной интерпретации игры в «Русскую рулетку», в которую, как утверждают мистические специалисты, играют все жители нашей страны, с той лишь оговоркой, что вместо пуль у нас – грозящие обрушиться здания.
Для того, чтобы сегодня обозначить кого-то экспертом (с латыни expertus – опытный), далеко не всегда нужно апеллировать непосредственно к опыту и способностям самого человека. Иногда достаточно и подходящего образования, даже призрачной связи с нужными людьми и неожиданной идеи или даже символа. И тогда в вашем телевизоре или на просторах интернета появляются такие персоны как Майкл Джонсон (отвечал за безопасность компании Hewlett-Packard в Калифорнии), Тоомас Кальяс (Toomas Kaljas) и прочие. И если в первом случае непонятно, был ли человек просто охранником склада с компьютерами или специалистом по эксплуатации промышленных помещений, то во втором случае (однозначно более вменяемом) цепляет и символ – скрученный болт, а также интрига – «потенциально опасные случаи халатности в строительстве некоего рижского т/ц». Ну и вправду «Русская рулетка»!
И хотя уважаемый Тоомас Кальяс решил держаться в рамках корпоративной этики и не разглашать возможные «места обвала», нужно отдать ему должное за его (по-видимому) бескорыстную работу по оценке отдельных строительных элементов руин т/ц Maxima и доклад, предоставленный для публичного ознакомления. Уж никак это не вяжется с пущенным невесть откуда слушком насчет заоблачных цен для привлечения заграничных (хотя Европа - какая заграница?) специалистов.
Об этом свидетельствует и привлеченные экс-премьером Домбровскисом иностранцы, которые обходили треугольную громаду свежеиспеченной Латвийской Национальной Библиотеки аж 5, а то и 6 раз! Вот это да, вот это перестраховка. При этом ещё и сэкономили… Что-то и впрямь не в порядке в нашем «королевстве», раз даже бывшему первому лицу государства пришлось так откровенно опровергать пущенный, опять же, каким-то там экспертом, слух.
Кстати о расценках. Конечно, многое зависит от величины строительного объекта и количества сотрудников экспертной команды. Также и от вида экспертизы и типа задачи: частной или государственного масштаба. Тем не менее, прошвырнувшись по европейским и российским сайтам компаний проводящих стройэкспертизы можно увидеть примерно такую картину (цены сразу переведены в евро):
Строительная экспертиза объекта: малого - от 100 до 300 €, более 120 кв.м. - от 710 до 1000 €.
Техническое обследование здания: от 980 до 1200 €
Тепловизионное обследование здания: от 2300 до 3100 €
Финансово-технический аудит: от 1000 до 1400 €
Экспертиза сметных расчетов: от 0,5% стоимости сметы (не менее 500 €)
Экспертиза проектной документации: от 1200 до 1500 €
Даже если увеличить эти суммы в n-ное количество раз, это все равно не уменьшит необходимости в объективном расследовании золитудской катастрофы.
Ситуацию делает ещё более запутанной тот факт, что по заверению самого главы Рижского Строительного управления Ингуса Вирцавса главной задачей их инстанции является не надзор над строительными объектами, а проверка соответствующей документации. Иными словами: объект должен быть построен правильно именно с юридической точки зрения. Технической же стороной пусть занимаются всякие финны да эстонцы…
На сайте Стройуправы www.rpbv.lv в странной, похожей на оправдательную статье «Что и как Стройуправа оценивает в строительном проекте?» также упомянут и тот факт, что в законодательстве имеется четко разделение, за что отвечает каждая из сторон, участвующих в строительном проекте. И главная ответственность (читай - вина) чаще всего лежит именно на руководителе проекта. Тем самым Стройуправа, являющаяся, по сути, самым что ни есть настоящим «регулярным экспертом», ясно дает понять всем недалеким, что их заключения по конкретным строительным объектам не так уж и важны, ни с точки зрения стойкости и безопасности объекта, ни с точки зрения ответственности за свои заключения. Да и само название «Būvvalde» указывает скорее на административное управление, чем на технические инспекции.
Эра «пустых слов», «терминов-карманов» и раздутых понятий уже давно наступила, и кто знает, возможно, мы все уже давно занимаемся чем-то абсолютно противоположным тому статусу, должности и званию, на которых числимся. Все усугубляет и то обстоятельство, что всяческие политики, антропологи и прочие представители «смежных дисциплин» привлекаются СМИ для экспертных мнений, которые те, конечно же, с радостью и предоставляют.
Но тогда уж нечего дивиться падающим сводам, тоннам вездесущей бюрократической макулатуры, неразберихи по вопросам ответственности на местах и прочих головных болях.